Герцогиня нашего двора
(из цикла пирамидальных тополей)
Когда она появлялась во дворе – тонкая, прямая, едва касающаяся асфальта острыми и звонкими набойками своих каблуков, – сплетницы умолкали. Она рассеянно кивала им и скрывалась в глубине подъезда. Дверь без шума и скрипа затворялась за ней. Последний отзвук ее шагов еще несколько мгновений дрожал в воздухе. Она была уже у себя в квартире и не могла ничего слышать, но что-то мешало кумушкам на скамейке сразу вернуться к любимому занятию – обсуждению ее нарядов, характера, образа жизни ее самой и всей ее семьи.
– На каблучищах бегает, все думает, что молоденькая, – наконец подавала голос самая бесцеремонная из соседок, баба Клава, по прозвищу Баклава, жирная и липучая, как это восточное лакомство.
– Она в магазины вообще-то ходит? Хлеба домой не принесет! Ни разу не видела ее с авоськой! – с готовностью поддерживала дворничиха Лизавета. – Что бы они ели без Елены Никифоровны?
– Она и дома ни к чему не прикасается, руки бережет. Герцогиня нашлась, поглядите! – фыркала Светлана Сергеевна, учительница на пенсии. – И Анька у нее такая же эгоистка, вся в мать. Эх, молодежь, молодежь. Думают, они-то никогда старыми не будут.
«Герцогиня… – подумала я, проходя мимо. – Ну конечно же!..»
– Кто молодежь? – взвивалась Баклава. – Это она-то? Да сколько б она морду ни мазала и ноги напоказ ни выставляла, все знают, что ей тридцать три! Пора и угомониться. Попрыгунья-стрекоза, лето красное пропела… Марусенька, здравствуй, деточка! – Это уже мне: меня подъездные старухи любили за вежливость, и еще жалели, потому что мама растила меня одна. – Как мамочка, здорова? – И опять, чуть понизив голос: – Вот я понимаю, баба надрывается, домой работу носит, ночами над бумажками своими сидит, и знает, сколько стоит литр молока, не то что некоторые… Все гарцуют… Тьфу!
Двор наш совсем не походил на Версаль: обычный дворик, образованный четырьмя блочными пятиэтажками в центре большого промышленного города. Зимой – в сугробах и смерзшихся кучах колотого льда вдоль поребриков, летом – в одуванчиках и тополином пуху. Окна герцогининого дома выходили на объездную улицу, по которой день и ночь грохотали тяжелые машины. И сама Герцогиня тоже была не де Ланже и не де Мофриньез, хотя такой она виделась в моем четырнадцатилетнем замороченном Бальзаком воображении. Звали ее Наталья Петровна. Еще менее подходящей для герцогини была ее фамилия – Клушина. Герцогиня приходилась родной матерью моей лучшей подруге Аньке, и я бывала у них почти каждый день.
Подруг у меня было вообще-то две, и обе лучшие: Анька и Анечка. С Анькой я училась в одном классе. Анечку из-за старинной дружбы наших бабушек знала едва ли не с пеленочных времен. Позже появилась еще Анна, студентка, репетировавшая меня по алгебре и геометрии, но она была старше на пять лет и относилась ко мне насмешливо-покровительственно, презирая уже за то, что в моих учебниках написано «треугольники равны», а в ее школьные времена они были «конгруэнтны». Зато моя дружба с Анькой за школьные годы не утратила безмятежности. Хоть ей нравился «Модерн Токинг», а мне Бранденбургские концерты Баха, но мы выросли на одной шумной улице, в одинаковых двухкомнатных «хрущобах» с совмещенными санузлами, и вскормлены были одним и тем же супом из рыбных консервов, на который наши бережливые бабушки переходили за три дня до родительских зарплат.
Наша третья подруга Анечка росла как лилия в тихой заводи – на другой стороне улицы, в тенистом дворике, в кирпичном доме, где имелся даже лифт со стеклянными дверями, точно такой, как в старом кино. Она была «девочка из хорошей семьи», дочь крупного начальника, и, как полагается таким девочкам, ходила в английскую и музыкальную школы. Единственная из нас она знать не знала, что такое детский сад и «продленка». Ее мать была высокая, элегантная дама. Нас она всегда встречала приветливо, ставила вазочку с домашним печеньем, наливала чай в чашки с блюдцами и пыталась, хоть и без особого успеха, обсуждать с нами театральные премьеры.
По-настоящему это она принадлежала к людям другого круга, нежели Анькины или мои родители. Но на бальзаковскую герцогиню она совсем не походила. Слишком сытый у нее был вид. Не хватало драматического излома бровей, хрипотцы в голосе, нервной складки губ. Родители Анечки часто ходили на оперные и балетные спектакли и сидели в первых рядах нарядные и важные, будто в президиуме. Моя мама и ее друзья к театру были равнодушны, вечерних туалетов не имели и изредка бегали в кино в своих свитерках-водолазках вечных шестидесятников. Наталья же Петровна вечерами просто исчезала. Одна. Куда и с кем она ходила – на выставку полузапрещенного художника-авангардиста, или на единственный концерт столичного виртуоза (билеты с рук за бешеные деньги), или изменяла своему мужу в такой же тесной «хрущобе», тайком, бегом, пригубив вместо бордо сладкого советского вина «Улыбка», – тайна сия была велика.
 Она возвращалась, сбрасывала шубку (пальто, плащ, жакет…), стуча каблучками, шла в комнату, отстраняла одним движением руки своего пятилетнего сына Лешку, который бросался ей под ноги, выкрикивая какую-нибудь рифмованную чепуху вроде «Люби бокал, будет хороший кал!». Скользила взглядом по стенам с дешевыми обоями, хмурила брови… о, как же она, только она одна их хмурила! Живи мы все в бальзаковском мире, Анечкина мать сводила бы брови на переносице, рассчитывая проворовавшегося лакея, моя мама терла бы лоб, размышляя, как дотянуть до выплаты по скудной ренте, не закладывая в ломбарде отцовских золотых часов, а вот во взметнувшихся бровях Натальи Петровны была бы та же, что и теперь, сладость тайны и горечь несбывшегося, то же безумное желание счастья и тот же дымок тлеющих на медленном огне надежд…
Она возвращалась, сбрасывала шубку (пальто, плащ, жакет…), стуча каблучками, шла в комнату, отстраняла одним движением руки своего пятилетнего сына Лешку, который бросался ей под ноги, выкрикивая какую-нибудь рифмованную чепуху вроде «Люби бокал, будет хороший кал!». Скользила взглядом по стенам с дешевыми обоями, хмурила брови… о, как же она, только она одна их хмурила! Живи мы все в бальзаковском мире, Анечкина мать сводила бы брови на переносице, рассчитывая проворовавшегося лакея, моя мама терла бы лоб, размышляя, как дотянуть до выплаты по скудной ренте, не закладывая в ломбарде отцовских золотых часов, а вот во взметнувшихся бровях Натальи Петровны была бы та же, что и теперь, сладость тайны и горечь несбывшегося, то же безумное желание счастья и тот же дымок тлеющих на медленном огне надежд…
– Мама, ты откуда? – спрашивала иногда Анька, не ожидая ответа.
Ответа не было.
Они впятером жили в двухкомнатной квартире со смежными комнатами: Наталья Петровна, ее муж, свекровь Елена Никифоровна, сын-детсадовец Лешка, дочь-подросток Анька, да еще вечно беременная кошка Матрена, попросту Мотя, и болонка-мальчик по кличке Жорж. Были также рыбки в аквариуме, а одно время жила черепаха. В отдельной маленькой комнате стояли кровати бабушки и внучки, Лешка спал вместе с бабушкой, а в большой, проходной, располагалась «герцогская чета». Мне в ту пору казалось, что все Клушины вечно раздражены и кричат друг на друга, но теперь я понимаю, что при такой жизни они, по крайней мере в присутствии посторонних, еще вели себя как ангелы.
Стаю животных обычно имеют дружные семьи, но они такой семьей не были. Для Клушиных четвероногие и хвостатые служили чем-то вроде громоотвода. Уйти из дома погулять с собакой, отвернуться, сделав вид, что гладишь кошку, тупо уставиться в аквариум – всё годилось, лишь бы только пореже видеть опостылевшие лица домочадцев. Я как-то раз подумала, что Лешку они родили, наверное, из тех же соображений, что и взяли в дом Мотю с Жоржем. Впоследствии я даже испугалась, узнав, до чего была права.
О счастливых великих романов не напишут – это я, восьмиклассница Маруся Мерзлякова, прочитавшая к тому времени под партой «Отверженных» Гюго и с головой погрузившаяся в «Человеческую комедию» Бальзака (из-за чего мне в конце концов и понадобился репетитор по математике), знала твердо. Финальная идиллия Мариуса и Козетты, задрапированная в муар цвета чайной розы, разочаровала меня так, что я даже не дочитала книгу до конца. До сих пор книжные хэппи-энды вызывают у меня ощущение фальши, хотя я думаю, что в жизни-то как раз счастливых финалов больше, чем драматических. «Подите вы к черту со своим флердоранжем, – бормочу я и сама удивляюсь своей злобности, – в жизни своя правда, а в литературе – своя».
Анькина мать счастлива не была.
А какая вообще она была? Не очень высокая, но стройная, тонкокостная, легконогая. На родительских собраниях среди других матерей, к тридцати пяти годам уже оплывших и обзаведшихся бабьими «шестимесячными» кудряшками, она казалась райской птицей. Ее темные негустые волосы были всегда подстрижены и уложены как у актрис и моделей в элегантных журналах. Эти журналы, московские, прибалтийские и польские, имелись почти во всех парикмахерских, но бесполезно было просить мастериц подстричь «так же» – они все равно стригли только как умели. А вот Наталья Петровна будто знала заветное слово: ее волосы послушно ложились так, как нужно было ей.
У нее был особый дар – ее слушались вещи. Обыкновенный шелковый платок для нее словно имел душу, и она обращалась с ним как с живым существом: флиртовала, журила, приручала. В результате платок обвивался вокруг шеи своей Прекрасной Дамы естественно и мягко, но держался как пришпиленный. Так ли важно, где она добывала французский лак, духи, помаду, кофточки, перчатки и сапоги… Возможности находились и в те годы, и не у нее одной. Но я не помню в своем отрочестве больше никого, кто бы с таким врожденным вкусом ими пользовался. Рожденные тетками тетками и оставались, даже с французским лаком на ногтях. Наталья Петровна была Герцогиней и в своей «хрущобе» на первом этаже, и с нелюбимым мужем, и с ненавидящей ее свекровью, и с зарплатой в сто рублей, и с полнейшей невозможностью вырваться из этого замкнутого круга: в принцев на белом коне большинство советских женщин бальзаковского возраста уже не верило.
Ее мужа звали Костик. Просто Костик. Однажды, когда я сидела у Аньки, к ней по какому-то делу зашла дочка соседей по площадке, наша ровесница, рослая, пышная девица по имени Снежана. К моему изумлению, она обратилась к Анькиному отцу на «ты» и назвала Костиком. Тот принял как должное и ответил «Снежа-ночкой», выделяя вторую часть ее имени ударением и особыми бархатными интонациями провинциального волокиты.
– Анька, она что, совсем дура? – прошептала я.
– Да уж поумнее нас с тобой будет, – загадочно ответила моя подруга. – А вообще она не виновата, он на ней этот взгляд тренирует, чтобы форму не потерять. Или просто по привычке. Ни одной юбки не пропустит! – добавила Анька с оттенком какой-то извращенной гордости.
Я невольно и, видимо, испуганно посмотрела на свою вытертую синюю школьную юбку.
– Не бойся, ты не в его вкусе, – утешила подруга. – Погляди на себя – ни груди, ни попы, ножки-палочки. И в голове одни книги. Это Снежанку нашу хоть сейчас замуж выдавай.
– Очень надо! – вспыхнула я. – Что за чушь ты несешь, Анна Константиновна!
Мой отец умер давно, когда я еще даже не ходила в школу, и я его уже не очень хорошо помнила, но при одной мысли, что я могу говорить о нем в подобном тоне или что такая вот Снежана могла бы назвать его «Вовчиком», я заливалась краской. Не говоря уж о том, что кривоногий, вечно небритый, пьяненький, со сладким и вместе с тем хитрым выражением глаз и виляющей походкой человека то ли сидевшего, то ли многого набравшегося от бывалых сидельцев, Костик внушал мне отвращение. «И это – муж Герцогини! – думала я. – Значит, герцог? Да какой он герцог! Нет, она герцогиня по рождению, а он… как бы его назвать? Не предприимчивый Феликс де Ванденес, не пройдоха Растиньяк, каторжник Вотрен – вот подходящее для него имя!».
Работал Костик в таком месте, что при недостатке изворотливости вполне мог бы угодить со временем туда же, куда и Вотрен. Он был замдиректора базы военторга. Что это такое, я представляла слабо, да и Анька не вдавалась в подробности. Мне виделся унылый склад, где на плечиках висят гимнастерки, а по углам громоздятся кучи противогазов. Но база эта ведала еще и продуктами, так что именно работа Костика давала возможность Наталье Петровне не таскать авоськи. Иногда Костику удавалось, говоря Анькиными словами, «толкнуть налево» ящик-другой мороженых кур, и тогда его мать каждый день бегала на рынок за творогом, медом и фруктами для Лешки. Аньке тоже перепадали от Елены Никифоровны яблочко или гранат, но не без внутренней борьбы: внучку она не любила. «Вся в мать! Вся в мать!» – восклицала она при удобном случае. Костик, несмотря на внешность сатира, был, что называлось, «муж-добытчик»: в темной кладовой у него была оборудована мастерская, стояла швейная машинка. Он приносил откуда-то рулоны кожи и по вечерам, когда являлся домой более или менее трезвым, сидел там, кроил и шил. Аньке он даже сварганил первый в ее жизни кожаный сарафан, в котором на один вечер она стала королевой школьной дискотеки.
Костик оказался одарен и другими талантами. Не знаю, пробовал ли он писать, но слог у него был бойкий и гладкий. Как-то мы с Анькой сочиняли статью для стенгазеты: он подошел, встал за нашими спинами, хмыкнул, невысоко оценив наши потуги, а потом принялся диктовать нам строку за строкой, почти не делая пауз. По-журналистски звонкие и округлые фразы сыпались у него, как монетки из-под штампа. Анька самодовольно улыбалась, будто мать, демонстрирующая олигофрена, который выучил четверостишие Агнии Барто.
Брак Натальи Петровны с Костиком казался мне таким же абсурдом, как и, скажем, между Вотреном и герцогиней де Мофриньез. Я знала, что они поженились, когда ей только-только исполнилось восемнадцать. Костик будто бы несколько лет ее безумно обожал. Что случилось потом, можно только гадать, но очевидно, что сатир и Снежная королева долго счастливы не были. Она молчала, томилась чем-то, грезила наяву. Он стал заводить любовниц. С одной из них она банально застала его в квартире, вернувшись днем за каким-то забытым дома бланком строгой отчетности. Первоклассница Анька была в летнем лагере, Лешка тогда еще не родился, а Елена Никифоровна, жалея сына, предупредительно уехала в другой город в гости к сестре.
С этого момента между Герцогиней и Костиком началась холодная война. Уйти из квартиры мужа ей было некуда, хотя именно об этом она мечтала больше всего на свете. Ехать к матери не позволяла гордость. Костик почти не скрывал, что продолжает ей изменять. Она, каждый вечер уходила из дома, не говоря, когда вернется, и была все такая же печальная, загадочная и красивая.
Наталья Петровна занимала меня больше, чем все герои Бальзака вместе взятые. Анька, сама того не ведая, раздувала огонь:
– Знаешь, маме предложили замшевое пальто. Бордовое! Она взяла. Цвет – бесподобный, размер – ни убавить, ни прибавить. Боже мой, ну почему я такая тощая! Оно бы ей скоро надоело и она отдала бы его мне!
Я помалкивала. Мне тоже и по той же самой причине было бесполезно рассчитывать на мамин гардероб. Хотя о бордовое замшевое пальто мы с нашей вечной нехваткой денег даже не думали. Разве что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете…». Хм… И бесплатно покажет кино.
– Анька, а кто у нас волшебник? – спросила я, вспомнив разом все модельные туфли, кашемировые свитера и шелковые блузки Натальи Петровны. Сколько бы кур ни «толкал налево» Костик (мне при этих словах сразу представлялся атлет, сжимающий в напряженной руке вместо ядра синюю скользкую курицу), так одеваться на эти деньги было невозможно. Да и много ли значили деньги в те годы?.. Подруга сразу меня поняла.
– Ты не знаешь?.. Я думала, что рассказывала. У мамы есть брат. Купается в деньгах. Его жена после свадьбы ни дня не работала. Одета как куколка, косметика вся французская, золота полная шкатулка. И борщей не варит, Марусь, не думай, у них есть домработниица. («Да я ничего не думаю», – вставила я абсолютно искренне, для меня это было все равно что описание быта марсиан.) У ребенка – няня. Когда Сашка родился, мой дядя приехал в самый крутой ресторан у них в районе, на Тяжмаше, бросил на стойку пачку сотенных и велел всем наливать бесплатно, чтобы все знали, что у него родился сын. Вот так! Неужели ему для единственной сестры чего-то жалко?
Ее глаза горели восторженным огнем.
– Он большой человек? – осторожно поинтересовалась я.
– Он большой спекулянт, – отрезала Анька. – Только никому не говори об этом, ладно? Вдруг у него будут неприятности.
Я прикусила язык, подавив оскорбительное «а-а, понятно», но осталась в уверенности, что Анька выдумала эпизод с рестораном. Для 1986 года он был слишком дик. Подруга как раз тогда решила прочитать «Идиота» Достоевского. Я видела ее мать знатной дамой бальзаковских времен, почему бы и ей не вообразить своего дядю Парфеном Рогожиным?.. Пройдет несколько лет, и подобное гусарство померкнет на фоне «стрелок» и «разборок», но Анькиного дяди уже не будет среди нового поколения «братков»: всего через полгода после нашего разговора он попадет в автомобильную аварию и погибнет на месте. Его нежная вдова, пользующаяся только французской косметикой, выйдет замуж за другого советского толстосума, потом он станет толстосумом российским, подтвердив две банальные истины, что не только богатство в этом мире величина неизменная, но и деньги идут к деньгам…
– Что же тогда ты ходишь в этой линялой кофте? – спросила я, помолчав.
– Мой размер редко попадается, – ответила она немного смущенно.
В действительности Наталье Петровне было все равно, во что одета ее дочь. Принимая подарки брата, она даже не думала заказать что-нибудь для взрослеющей Аньки и едва ли вообще замечала, что та почти сравнялась с ней в росте, а по размеру ступни так уже обогнала. Дома они почти не разговаривали. Приходила Наталья Петровна очень поздно, шла на кухню, молча брала что-то из холодильника или со сковородки, ела в полном одиночестве, потом садилась к телевизору, не поблагодарив Елену Никифоровну за ужин. Телевизор она смотрела как будто бы самозабвенно, но в действительности чаще всего глядела невидящими глазами сквозь экран. Я ни разу не видела, чтобы она читала книгу, вязала или играла с Лешкой: сказки ему рассказывала только бабушка. На ее лице были написаны презрение ко всему и всем и бесконечная усталость. Любила она, кажется, только болонку Жоржа: часто брала его на руки, ерошила шерсть, сюсюкала, целовала в морду. Ее ноздри, тонкие и нервные, как у породистой лошади, подергивались, втягивая волей-неволей запах канализационных труб и душной влаги: в ванной тек кран с горячей водой.
– Опять, – страдальчески роняла она.
Из комнаты развинченной походкой появлялся Костик.
– Я вызвал сантехника. Завтра придет. Только понимаешь, такое дело, у матери талон к врачу. У меня ревизия. Может, хоть на полдня отпросишься с работы?
– Ты знаешь, что я не могу.
Герцогиня работала в бухгалтерии «номерного» завода.
– Ты никогда ничего не можешь! Уже второй год ничего не можешь! – повышал голос Костик. На кухне демонстративно гремела кастрюлями Елена Никифоровна. Анька затыкала уши. Я хватала куртку и, бормоча «мне пора, еще уроки не сделаны», выскакивала за дверь. Анька обычно просила меня в таких случаях остаться, потому что при мне родители воздерживались от настоящих ссор с криком, слезами и руганью. Но как ни жаль мне было подругу, я исчезала. Мне неловко было присутствовать при ссоре чужих взрослых людей. Более того, я боялась, что Герцогиня вдруг не совладает с собой, потеряет стиль, и из ее красиво очерченных губ польются выражения, более уместные в устах Баклавы или дворничихи Лизаветы. Герцогиня не имела права оказаться не такой, как я себе ее нафантазировала.
В один весенний вечер я призналась себе в смешном и нелепом желании выяснить, куда по вечерам исчезает Наталья Петровна. И по сей день я не могу это объяснить чем-то кроме стремления понять, «сосуд она, в котором пустота, – или огонь, мерцающий в сосуде?» (эти стихи Николая Заболоцкого я, затаив дыхание, переписывала в тетрадь рядом с балладами Шиллера и сонетами Бодлера). Моя странная влюбленность в Герцогиню нашего двора, как любая другая влюбленность, не поддавалась холодному анализу.
Мне не хотелось походить на Герцогиню. Точнее, я знала, что никогда не буду такой, как она. С ненавистью рассматривая в зеркале свои веснушки и румяные щеки, я не верила, что хоть кто-то хоть когда-нибудь увидит в моем лице, говоря словами поэта, «и женственность, и нежность, и наслаждение, которое убъет». Я не завидовала и нарядам Натальи Петровны. Дочь своей практичной матери, я лучше всего чувствовала себя в брюках и свитерах, и даже достигнув герцогининого возраста, не стала, как выражалась бабушка, «цирлих-манирлих»: шляпы на мне сидят криво, лак облетает с ногтей, юбки переворачиваются, платки сбиваются…
Наталья Петровна, скажу больше, была мне неприятна как человек. Ее холодность к детям и нежность к собаке меня оскорбляла. Я чувствовала обиду за Аньку, которая не знала, что это такое – ласкаться к матери, делиться девчоночьими тайнами, отмахиваться от непрошенных советов (которые кажутся банальными и смешными, однако насколько же обиднее, если вам их вообще не дают!).
Ум? Чувство юмора? Тоже нет. Далеко было Наталье Петровне до настоящих, остроумных и циничных, бальзаковских герцогинь. Она почти всегда молчала. Но, может, только потому все это и затянулось у меня так надолго. Снисходительность влюбленной Маруси Мерзляковой охотно наполняла сосуд (где могла быть и пустота, почему нет, лишь бы не было какой-нибудь гадости и глупости) воображаемыми талантами, проявить которые Герцогине не давала пошлая окружающая обстановка. Или чувствами, которые она могла испытывать. Или прошлым, из-за которого могла страдать… Что-то мешало мне презирать эту холодную и всем недовольную женщину, цель жизни которой заключалась, видимо, в том, чтобы каждый день картинно мучиться самой и своей гордой позой Герцогини-в-изгнании мстить хозяевам этого крысятника. Унизительное существование обретало смысл – хорошей заменой счастью была возможность делать несчастными тех, чью жизнь она не слишком добровольно делила.
В тот день мы не стали заходить за Анечкой и сразу после школы отправились к Аньке домой. «Да ну, сидеть дома в такую погоду!» – ныла моя подруга. Я была непреклонна. Мы поиграли с Мотиными котятами, вяло раскинули пексесо. В шесть появилась Наталья Петровна. Как обычно, она не стала ужинать, переоделась и ушла. Я соврала, будто только сейчас вспомнила, что меня ждут дома, и выскочила за ней на улицу.
Крадучись, я пустилась по следу. Бордовое замшевое пальто Герцогини плыло метрах в пятидесяти от меня. Изображать частного детектива не было никакой нужды: она не оборачивалась, не смотрела по сторонам и шла, озабоченная лишь тем, как бы не ступить в лужу.
Вечер стоял солнечный и очень теплый, какие бывают у нас в конце апреля. Снег сошел, оттаявшая земля издавала могучий запах брожения. На улицу высыпало множество людей, молодых и старых. Казалось, и в них, как под корой деревьев, бурлит, взрывая кожу, весенний неукротимый сок. Был момент, когда я увидела компанию ребят, играющих в «пионербол», и забыла про Герцогиню – мне тоже захотелось бегать, прыгать, смеяться, а не устраивать непрошенную слежку за полузнакомой женщиной, ровесницей моей матери.
Если я на пару минут потеряла Герцогиню из виду, найти ее оказалось нетрудно. Наталья Петровна шла центральными улицами, не заходя во дворы, не срезая углов. Ее легкая походка, расправленные плечи, красивая посадка головы привлекали внимание. Я видела, как некоторые мужчины ускоряли шаг, чтобы поровняться с ней, заглянуть ей в лицо. Но что-то в выражении лица им, видимо, не нравилось, – все любопытствующие, взглянув, отступали и шли своей дорогой. Я тогда уже прочитала моэмовский «Театр» и вспомнила прогулку Джулии по Эдвард-роуд. Может быть, Герцогиня уходила из дома точно с такой же целью?.. Может, изменяющий Наталье Петровне Костик подорвал в ней веру в собственную привлекательность?..
А может, она просто «фланировала» – я знала, что люди, подобные герцогине де Мофриньез или виконтессе де Босеан, по улицам должны не ходить, а фланировать (мне безумно нравилось это слово, напоминавшее и легкий фруктовый пирог флай, и крылатый планер), лавируя между экипажами, холодно и дерзко улыбаясь в ответ на взгляды молодых франтов, ловя краешком глаза свое безупречное – от носков туфель до перьев на шляпках – отражение в витрине какой-нибудь «Галери Лафайет»…
…Она и пришла в нашу городскую «Галери Лафайет», называющуюся, увы, не так поэтично – ЦУМ, – и принялась без всякой видимой цели бродить по первому этажу. Там было что-то вроде заповедника красивых вещей, музея с бессмысленными ценниками на экспонатах. Цифры на них стояли несусветные. В этом отделе почти никто ничего не покупал. Герцогиня полюбовалась немецким гипюром, расшитым серебряной нитью, скользнула заинтересованным, как мне показалось, взглядом по фужерам богемского стекла и остановилась перед витриной с японскими настенными тарелками. Я тоже давно заглядывалась на них. Стоила каждая из них треть герцогининой зарплаты. С уверенностью человека, находившегося среди этих вещей как дома, Наталья Петровна велела продавщице показать одну из тарелок, самую тонкую и красивую. Я мысленно одобрила: сама бы тоже выбрала именно ее. Продавщица оценила манеры покупательницы и отреагировала на ее просьбу без обычных надменных вздергиваний брови. Герцогиня взяла тарелку, задумчиво посмотрела, перевернула, как будто желая проверить клеймо. Я не выдержала и придвинулась ближе. Тут-то, видимо, по отражению в стеклянном шкафу, она меня заметила.
– Маруся!.. Что ты тут делаешь?
– Ищу заварочный чайник… наш разбился, – с ходу соврала я.
– Но ведь ты была у нас! Как ты здесь оказалась?
– Я ушла после вас, когда вспомнила, что мама просила купить чайник сегодня. А то не из чего будет пить чай. Приехала на трамвае, – добавила я для пущей убедительности.
– А-а…
Она меня уже не слушала: с явным сожалением вернула тарелку и углубилась в созерцание мельхиоровых столовых приборов. Я вспомнила их квартиру с вечным запахом кухни и кипящего на плите бака с бельем, аляповатые обои, уродливую «стенку»… Диана де Мофриньез, изгнанная из дворца и живущая с бывшим каторжником в его лачуге, искала себе… нет, не герцога. Герцогов на свете не осталось, а второго Костика ей было «даром не нать». Герцогиня рвалась на свободу. Только возвращение во дворец, ну ладно, пусть не во дворец, а даже в самую маленькую собственную квартиру могло дать ей возможность быть собой. Она уже воображала эту квартиру, заботливо развешивала на плечиках в гардеробе свои блузки и жакеты, перекладывала белье пакетиками с сухими духами (нет, не все советские женщины хранили в нем туалетное мыло, сухие духи тоже имелись в те времена, и некоторые даже знали, для чего они служат…), представляла себе залитые солнцем гладкие белые стены, и японский фарфор, и розу в тонком стакане, и тишину, и запах свежести… Наталья Петровна несколько раз досадливо оглянулась на меня. Я мешала ей. Я поправила перед витриной свой берет и поплелась на второй этаж, чтобы не пришлось, в самом деле, покупать ненужный заварочный чайник …
Четыре года спустя, когда мы с Анькой уже были студентками, в жизни Клушиных наступили перемены. Умерла мать Герцогини, жившая на другом конце города. Ее квартира перешла к дочери. Наталья Петровна тотчас развелась с Костиком, вернула свою девичью фамилию (а она была у нее, оказывается, очень красивая – Хрусталева) и уехала, взяв собаку и Лешку. Анька и кошка Матрена остались с отцом.
Меньше чем через год Анька вышла замуж и покинула наш двор. Не успело смыть дождем со стены выведенную мелом надпись «Тили-тили-тесто, здесь живет невеста!», как и я вышла замуж и тоже уехала. На память о детстве я забрала котенка, Матрениного последыша (мой остроумный муж нарек кота Мерзавчиком, так как вручивший его нам Костик мучился похмельем и жалобно твердил: «Хоть мерзавчик бы мне! Стал бы я как новый…»). Чуть дольше на нашей улице задержалась Анечка, но и она вскоре заботами родителей получила собственную квартиру и переселилась в новый район.
Анькиных родителей я очень долго не встречала. От подруги знала, что после смерти Елены Никифоровны Костик приватизировал и пропил свою квартиру, очутился на улице, некоторое время пожил у дочери, но потом ему повезло. Приятель устроил его в рекламное агентство. Теперь Костик сочинял для них тексты и неплохо зарабатывал. Оказалось, что именно ему принадлежит «шедевр» рекламы медицинского центра с говорящим названием «Венера»: «Все знают, опасны случайные связи. Но мы, мужики, не святые ни разу… К стыду или страху повода нет – узнай дорогу в наш кабинет! Сходил «налево» – иди направо: в МЦ «Венера» на улице Славы! Известно должно быть тебе и мне: сначала – к врачу, а потом – к жене!». Костик больше не пил, снимал комнату и жил с продавщицей (терпеть не могу нынешнее технократическое слово «реализатор») вещевого рынка, которая после смены бежала домой варить рассольник своему ненаглядному. Анька уверяла, что у отца эдипов комплекс: сожительница Костика по характеру оказалась повторением Елены Никифоровны и даже точно так же любила и баловала его сына и терпеть не могла его дочь.
Герцогиня оклеила свою квартиру белыми обоями, но уже через год их содрала – оказалось марко и скучно. Покупать японский фарфор и чешское стекло тоже не пришлось, почти все деньги уходили на сына-подростка. Впервые в жизни Наталья Петровна нашла дополнительную работу и стала носить домой папки со счетами и балансами. Время от времени у нее появлялись какие-то мужчины. Надолго и всерьез не задержался ни один. Потом Лешка вырос и неожиданно женился на женщине с ребенком, едва ли не ровеснице своей матери. Наталья Петровна плакала, прятала его паспорт, обещала «напиться таблеток», однако все оказалось напрасно. Свадьба обошлась без герцогининого благословения. Лешка приходил к матери только по праздникам и никогда не звал к себе, да она бы все равно с негодованием отказалась… Диана де Мофриньез превратилась в мамашу Горио.
В считанные месяцы Герцогиня постарела, располнела, перестала хорошо одеваться. После «несчастья», как Наталья Петровна называла Лешкину женитьбу, она немного сблизилась с Анькой и стала соглашаться иногда, очень редко, посидеть с внучкой Танечкой. Главной ее любовью после Жоржа стал бульдог Бобби. Она всюду брала его с собой, даже к дочери, забывая или не думая о внучкиной аллергии: «Мальчик не любит оставаться дома один!».
Столкнулась я с Герцогиней под Новый год, случайно. Праздновать мы собирались вместе с Анькой и ее мужем, и я зашла условиться, кто из нас что покупает и готовит. Список был составлен, я уже одевалась в прихожей, как вдруг появилась Наталья Петровна с Бобби.
– Маруся! Я так рада тебя видеть! Ты совсем, совсем не меняешься! – зачастила она (любопытно, когда взрослой женщине, которую в последний раз видели нескладным подростком с цыпками на руках, говорят, что она не изменилась, это комплимент или совсем наоборот?..) – Что, уже уходишь? А я хотела с тобой поговорить!
Поговорить! Как я желала и боялась этого пятнадцать лет назад. Если бы передо мной по-прежнему была Герцогиня нашего двора, я ради нее пропустила бы, пожалуй, свое редакционное совещание. Но эта шумная немолодая женщина не имела ничего общего с той. Мне – чего уж тут скрывать – было неинтересно, что она скажет.
– Я бы с радостью, Наталья Петровна, но в другой раз. Сегодня не могу – служба.
– Тогда я провожу тебя до автобуса. Анна! Сними с Бобочки пальто и постели ему коврик возле батареи.
– Нет уж, забери его, пожалуйста, с собой! И я с Таней тоже прогуляюсь, она сегодня еще не была на улице.
Анька побежала одевать дочь, а мы с Натальей Петровной и бульдогом вышли на площадку.
– Ты ходишь в сауну? Нет? Напрасно! Очень, очень оздоровляет. Посмотри, какой у меня цвет лица! Ну конечно, общественную не советую, дорого, да и мало ли чего там можно подцепить… Там ведь по ночам бизнесмены с проститутками, сама понимаешь…. Я приезжаю раз в неделю к Мариночке. – Я с трудом вспомнила, что Мариночка – это вдова ее брата-«спекулянта», с которой Герцогиня сохранила хорошие отношения после нового брака той, может, с дальним прицелом, а может и просто из симпатии и родства душ. – У них в коттедже и бассейн, и тренажерный зал. А воздух какой у них в Исетске! Я летом приезжаю туда загорать, когда Мариночка улетает в Испанию.
«А привидения по ночам не беспокоят?» – хотела поинтересоваться я. В свое время добрая половина хозяев кирпичных особняков сменила квартиры в результате переделов собственности, и теперь в полукилометре от коттеджного поселка за кладбищенской оградой высился ряд мраморных с золотом надгробий, соперничающих по высоте и чистоте камня – как когда-то соперничали друг с другом дома тех, кто под ними лежал… Оставшихся в живых такое соседство не беспокоило: земля в поселке по-прежнему росла в цене.
– Ты работаешь за компьютером? – продолжала Наталья Петровна. Не дожидаясь моего ответа, уже неслась дальше. – Знаешь, я подрабатываю в одной французской фирме. Они производят витамины, которые принимает даже президент!
– Чей? – спросила я, чтобы поддержать разговор.
Она не слушала.
– Одна таблетка заменяет килограмм экзотических фруктов! Посчитай, сколько стоит килограмм таких фруктов, особенно зимой, и ты поймешь, что эти витамины невероятно дешевы. А микроэлементы! А клетчатка! Наш продукт называется «Солей», по-французски это значит «солнце».
– Мы с вашей дочерью учили в школе французский, – напомнила я.
– Он буквально заряжает человека солнечной энергией! – Наталья Петровна как будто нажала на своем теле кнопку «play». – Нормализует вес, давление, аппетит, выводит все шлаки и радионуклиды, улучшает зрение! Тем, кто имеет дело с компьютером, «Солей» просто необходим! Проводились клинические испытания с двумя группами мышей, и представляешь…
– Мышей сажали за компьютер? – хихикнула я, пытаясь перебить этот поток заученных слов. Я знала, что будет дальше. Сейчас она скажет, что пузырек чудо-витаминов стоит тысячу рублей, но для распространителей, как она, цена в два раза ниже: нужно всего-то сделать сначала вступительный взнос в три тысячи…
Я вздохнула с облегчением, когда наконец вышла Анька.
На автобусной остановке, будто вспомнив о чем-то, Наталья Петровна подошла к киоску и попросила для внучки «Чупа-Чупс». Она открыла большой, жесткий, не в прежнем ее стиле бумажник и суетливо – опять не в прежнем стиле – зашуршала купюрами. Я увидела фотографию Бобби там, где другие владельцы бумажников носят фотографии детей. «Да в самом деле, изменилась ли Герцогиня?» – подумала я запоздало.
– С Лешкой ты не видишься? – спросила Анька мать.
– Почему? – отозвалась она обиженно. – Вчера он сам мне позвонил. Пришел с этой, как ее… с корпоративной вечеринки. Голова у него болела. Я ему сказала: «Ты только в новый год не напивайся, а то у тебя весь год голова будет болеть». Говорят ведь, как встретишь…
– Мама! – простонала Анька. – Ну что ты как бабка старая…
Лицо Натальи Петровны покрылось пятнами. Но тут подошел мой автобус, я крикнула на прощанье «Пока-пока!» и уехала, предоставив им, как в детстве, самим выяснять свои отношения. Я сидела у окна, отогревая – тоже как в детстве – «глазок» на замерзшем стекле, и в ритмичном постукивании мотора мне слышалось: «Сосуд-она-в-котором-пустота-или-огонь-мерцающий-в-сосуде…».
Автор Ирина Шаманаева (Frederike)

 Вся жизнь — это как дорога в Лабиринте Иллюзий, и вышел бы давно, да не получается. И ведь сами себе создаем. И вроде понимаешь, что самообман, а все равно как-то бродишь и бродишь… Иногда срабатывают устойчивые шаблоны: если сделать так, то получится эдак. Работают, создавая новые иллюзии. А там где есть Надежда, всегда Иллюзия. А не будет Иллюзий, что тогда будет? там…
Вся жизнь — это как дорога в Лабиринте Иллюзий, и вышел бы давно, да не получается. И ведь сами себе создаем. И вроде понимаешь, что самообман, а все равно как-то бродишь и бродишь… Иногда срабатывают устойчивые шаблоны: если сделать так, то получится эдак. Работают, создавая новые иллюзии. А там где есть Надежда, всегда Иллюзия. А не будет Иллюзий, что тогда будет? там… Ах, театр… театр… Любите ли вы театр так, как люблю его я? Со всеми его потрохами: с гардеробщицами, ненавидящими вас за то, что у вас пальто без петли, с разваливающимися биноклями, обмотанными скотчем и мутными, как взгляд воблы? С этими бездарными артистами, фиглярами, лицедеями, имперсонаторами, кривляками, ломаками, туясанами, давно забывшими, что можно просто говорить, а не только пафосно и фальшиво декламировать. Со всеми его львами, орлами, куропатками, сценаристами, наблюдающими через узкую щель своего восприятия крошечный пятачок мира вокруг. Конечно, у «сценариста Х острый взгляд на жизнь», с его кругозором-то… Любите ли вы театр целиком, полностью и без остатка? С его режиссёрами, у которых незадействованный артист замирает и стекленеет, с криками вечно
Ах, театр… театр… Любите ли вы театр так, как люблю его я? Со всеми его потрохами: с гардеробщицами, ненавидящими вас за то, что у вас пальто без петли, с разваливающимися биноклями, обмотанными скотчем и мутными, как взгляд воблы? С этими бездарными артистами, фиглярами, лицедеями, имперсонаторами, кривляками, ломаками, туясанами, давно забывшими, что можно просто говорить, а не только пафосно и фальшиво декламировать. Со всеми его львами, орлами, куропатками, сценаристами, наблюдающими через узкую щель своего восприятия крошечный пятачок мира вокруг. Конечно, у «сценариста Х острый взгляд на жизнь», с его кругозором-то… Любите ли вы театр целиком, полностью и без остатка? С его режиссёрами, у которых незадействованный артист замирает и стекленеет, с криками вечно
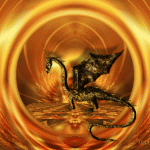 Зверек откашлялся и продолжил:
Зверек откашлялся и продолжил: